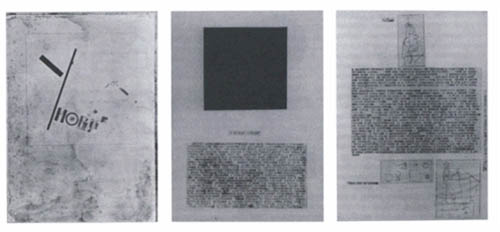| Сегодня деятели русского художественного авангарда 1920-х годов привычно воспринимаются нами в первую очередь как художники-новаторы. Они и сами называли себя передовым отрядом революционного искусства. Однако вопросы, к которым авангардисты обращались в своей деятельности, нередко выходили за пределы искусства как такового. Достаточно вспомнить «космизм» В. Кандинского или супрематизм К. Малевича – проекты со сходными вселенскими устремлениями. Многие из деятелей авангарда, такие как А. Родченко, Э. Лисицкий, В. Степанова, Л. Попова, А. Ган и другие также обращались к вопросам, которые традиционно отданы в ведение науки или философии, в частности, к вопросу о том, что такое истинная реальность и каковы адекватные средства её познания. Однако в отличие от Кандинского или Малевича, эти авангардисты оставили после себя далеко не столь обширные теоретические трактаты, и их идеи часто фиксировались лишь в самих авангардных художественных произведениях и немногочисленных статьях. Тут возникает вполне закономерный вопрос: возможно ли считать этих авангардистов не просто художниками, которые были склонны к теоретизированию, а самостоятельными мыслителями и полагать, что они являлись не только пионерами неклассического искусства, но и пионерами неклассической мысли? Если это так, то вполне возможно, что некоторые наиболее глубокие концептуальные мысли, высказанные этими деятелями русского авангарда в начале ХХ века, не ушли безвозвратно, продолжили свою жизнь после завершения авангардного проекта и их можно обнаружить в философских концепциях второй половины ХХ века — например, в рамках философии постмодерна. Одним из самых ярких представителей этого направления, оказавшим заметное влияние на всю современную мысль, был Жак Деррида. Он приобрел мировую известность, опубликовав в 1967 году сразу три книги — «О грамматологии», «Голос и феномен», «Письмо и различие», в которых были заложены основы одного из самых заметных философских направлений XX века — деконструкции. Общая картина умонастроений во Франции 60-х годов определялась рядом тем, сосредоточенных вокруг идеи «конца философии». Выражалось это по-разному. Имел место призыв перейти от теории к политической практике – к чему призывали марксисты и сартровцы; призыв к созданию научной философии на месте идеологических конструкций, или подведению итогов эпохи господства имперского западного разума (в мире тогда заканчивалась эпоха колониализма); была и критика «этноцентризма», сопровождавшаяся широким интересом к «экзотическим» объектам [1, с. 9]. Эти установки по-своему преломляются в работах Деррида, ведь он — философ, уклоняющийся от лобовых решений фундаментальных проблем: от претензий на окончательность истины и от господства над людьми от имени единственно правильного метода, логоса, сущности или закона, от попыток отождествить мысль о предмете с самим предметом, от центра и центризма во всех видах, от доминирования одной из сторон в бинарных оппозиционных категориях [3, с. 228]. Вероятно, благодаря этому сегодня Жак Деррида имеет статус одной из главных знаменитостей в западном философском или литературно-философском мире. Несколькими десятилетиями ранее, в 1920-х годах, в Советской России были свои знаменитости. Те годы для авангардного движения были очень важным периодом — шел процесс оформления и упорядочения внутренне противоречивых концепций, зародившихся в ещё раннем авангарде [9, с. 332-336]. В ряду наиболее известных и наиболее теоретически мыслящих художников двадцатых годов можно особо выделить двух, уже упомянутых нами – Александра Родченко и Эль Лисицкого – авангардистов чрезвычайно ярких, сочетавших в себе творческую художественную одаренность со способностью к глубокому теоретическому мышлению. Нефонетическое письмо Ряд идей, высказанных Лисицким в самом начале 1920-х, касался феномена книги. На страницах Альманаха Уновис №1 в 1920-м году Лисицкий писал: «Библия Гутенберга была написана только буквами. Библия нашей эпохи не может выйти в свет напечатанной только буквами». Так, Лисицкий писал о визуальных, нефонетических, знаках. Более отчетливо эта мысль была высказана им позже, в конце 1920-х годов: «Визуальная речь богаче, чем звуковая. Это преимущество, которое книга, набранная буквами, потеряла» [5, с. 164]. Если рассматривать мысль Лисицкого в интересующем нас боле широком контексте, то нужно вспомнить, что в свое время этого вопроса касался Г.В.Ф. Гегель. Он чрезвычайно точно предвосхитил сразу несколько доминирующих тем философии постмодерна и вплотную подошел к выводу, сделанному много позже Жаком Деррида, о начале эпохи, в которой на смену фоноцентрической доминанте придет преобладание нефонетического письма. Опираясь на гегелевскую теорию, Деррида берет за основу снятую в европейском духовном производстве визуальную пространственно-графическую компоненту мышления и превращает графему в орудие борьбы против доминирования фонем и фоноцентризма. Он утверждает, что то, что прорывается в письме через нефонетический момент, есть ни что иное, как сама ткань жизни в текстуальном обличии [3, с. 252]. В «чистом» нефонетическом письме, согласно мысли Деррида, достижима «ткань жизни», то есть непосредственность. К непосредственности настойчиво стремились и авангардисты. Как им казалось, именно к самой жизни обращено их творчество и именно из самой жизни берется ими материал произведений. На эту убежденность указывал, в частности, Б. Гройс, как на одно из ключевых заблуждений авангарда [2, с. 49-50]. По-видимому, именно непосредственность достижения реальности имел ввиду Эль Лисицкий, когда писал, что в книге, ставшей «многортом единого человека», «тембр мысли и чувств мы <…> расчленили в графике кривых и прямых схемы и диаграммы ноты краски построения искусств фотографии и карты» [8, с. 80-81]. Таким образом, согласно Лисицкому, «тембр мысли и чувств» оказался расчленен в нефонетических знаках – «в графике кривых и прямых». Иероглифическое беззвучное письмо, доказывал Лисицкий в конце 1920-х, дает больше возможностей, чем буквенное, ведь «визуальная речь богаче, чем звуковая. Это преимущество, которое книга, набранная буквами, потеряла» [5, с. 164]. Деррида подчеркивал амбивалентное отношение Гегеля к буквенному письму. Основной недостаток такого письма в том, что оно состоит из знаков других знаков (графический знак буквы указывает на её звучание). Но достоинство состоит в способности становиться прозрачным перед голосом-логосом, идеальной предметностью, содержащейся в фонетических означаемых. Лисицкий же, действуя в духе своего революционного времени, требует радикального преобразования, утверждая, что «форма будущей книги будет пластически-изобразительной», основанной на нефонетических знаках и поэтому «анациональной» [5, с. 164-165]. Но почему же, высказываясь против фонетического письма, Лисицкий направляет свои усилия на преобразование книги? Дело в том, что фонетическое письмо доминирует в европейской культуре и осуществляет снятие-вытеснение речи, а также иероглифической и символической систем письменности. При этом наиболее полным воплощением фонетического письма в европейской культуре можно считать книгу в её классической форме «библоса». Вероятно, именно по этой причине Лисицкий, авангардист, обращенный, как и весь авангард, к преодолению традиции, атакует книгу, воплощение фонетического письма и дискурсивного мышления. Очевидно, что в вопросе о книге Лисицким двигала не революционная страсть к разрушению, а достаточно глубокое осознание проблем современности – он попытался найти путь преодоления недостатков фонетического письма. Ещё в 1920-х годах он попытался сформулировать собственный ответ на вопрос, который в дальнейшем не только не утратил свою актуальность, но и стал предметом более детальной философской разработки в философии постмодерна. След В видении Деррида текст становится продолжением тела пишущего, его частью. При этом понятие «след» занимает особое место в теории письма Деррида – оно обозначает микроструктуру текста. «След – часть тела, но <...> такая, которая обособляется <...>», остается и отделяется от тела. Текст, согласно Деррида, не просто описывает, но и структурно организует новое пространство в самом акте чтения и письма. «Мне кажется, – говорил Деррида, – что когда я пишу или читаю, я пытаюсь не только что-то сказать или показать, убедить в чем-то, но и просто обрисовать новую форму, новую годологическую структуру, как-то: вот перед вами этот текст, он – не объект, но карта, карта в географическом смысле или хартия в смысле конституционном; это карта, имеющая свои дороги и их невидимые ответвления, подземные пути». Деррида понимает письмо как попытку выхода из неразрешимых ситуаций и безвыходных положений путем картографического описания – прокладывания пути в тексте, как следа поиска и отслеживания в нем следов [3, с. 291]. Сходная мысль была сформулирована Лисицким на страницах Альманаха Уновис №1 в 1920-м году. Лисицкий разместил свои рассуждения о строении книги на 51-м листе Альманаха под заголовком «примечание не к этой книге».
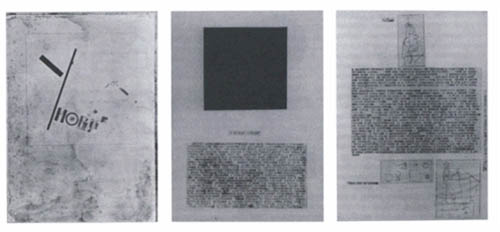 Рис.1.Альманах Уновис №1. Обложка и отдельные страницы
Он писал: «книгу стройте как тело движущееся в пространстве и времени как динамический рельеф в котором каждая страница поверхность несущая формы и при каждом повороте новое пересечение и новая фаза единого строя. так вы создадите на смену многотомному роману <...> новую книгу в несколько страниц творческого знакообразования <...>» [8, с. 80-81]. В рассуждении Лисицкого, книга выступает как след движения «тела», движущегося в пространстве и времени. Фазы движения этого «тела» становятся частями книги, обретающими между собой необходимую связь. Причем, фазы движения, согласно Лисицкому, – это фазы процесса «творческого знакообразования». Эта идея о «теле», оставляющем след, демонстрирует заметное сходство с мыслью Деррида, ведь в концепции Лисицкого «тело» — это то, что в процессе своего движения оставляет пространственный след и формирует пространственный феномен – книгу. Фаза движения «тела» — это часть пространственной конструкции книги — страница, которая, в свою очередь, есть «поверхность несущая формы». В результате, можно сказать, что книга у Лисицкого – это след процесса творческого поиска, процесса «творческого знакообразования», который остается и отделяется от движущегося «тела». Удвоение Удвоение в письме первоначального импульса, согласно Деррида, — это средство введения иного, бездны. Помещение в бездну представляет собой очень важный момент его философии: «Помещение в бездну... всегда может заполнить бездну, полагая её, насыщая её до бесконечности своей собственной репрезентацией» [3, с. 298]. Тут уместно вспомнить, что заполнение бездны, или пустоты, представляет собой, как писал Лисицкий, «энергетическое задание искусства», состоящее в том, чтобы «превратить пустоту в пространство, то есть воспринимаемую нашими чувствами организованную единицу» [5, с. 165]. Для описания закона структурирования бездны Деррида использует термин abyme — понятие, заимствованное им из геральдики и означающее уменьшенное воспроизведение геральдической фигуры внутри себя самой до бесконечности. Этот принцип, предложенный Деррида для структурирования бездны или пустоты, демонстрирует определенную близость к принципу, лежащему в основе серии пространственных произведений Александра Родченко. Речь о второй серии его пространственных конструкций, выполненной в 1920-1921 годах и названной «по принципу одинаковых форм». Эта серия вместе с пространственными конструкциями В. и Г. Стенбергов, К. Медунецкого и К. Иогансона экспонировались на «Второй весенней выставке Обмоху», состоявшейся 22 мая 1921 года в Москве. Родченко дал своим конструкциям названия «круг в круге», «квадрат в квадрате», «треугольник в треугольнике» и т.д. и так зафиксировал их существенное пространственное качество — погруженность подобных геометрических фигур друг в друга.  |  |  | | Рис. 2а.
Овал в овале
(Реконструкция) | Рис .2б.
Квадрат в квадрате
(Реконструкция) | Рис. 2в.
Треугольник в
треугольнике
(Реконструкция) | Принцип, лежащий в основе произведений этой серии, вполне возможно назвать принципом удвоения и повторения: «круг в круге, овал в овале, шестигранник в шестиграннике, квадрат в квадрате, треугольник в треугольнике». Для Деррида удвоение, то есть тавтологическое использование метафизических, спекулятивных категорий, имеет принципиальный смысл в его философии мышления и культуры. Удвоение нацелено на освобождение от «жестких догматических оппозиций и репрессивных структур «освоенного» дискурса, выдающего себя за естественный взгляд на вещи» [3, с. 295]. Сходным образом усилия Родченко, создавшего пространственную конструкцию, основанную на помещении одной фигуры в другую (в частности, квадрат в квадрат и далее в квадрат и т.д.), были обращены, кроме всего прочего, к освобождению от жестких догматических структур «освоенного» пространственного мышления, к преодолению «автоматизма», ведь, как писал Родченко, «мы часто смотрим, но не видим» и поэтому необходимо «революционизировать наше зрительное мышление» [6]. Рассматривая приведенный ряд авангардных идей, необходимо помнить, что Родченко и Лисицкий, как и все иные авангардисты, будучи истинными революционерами по духу, не смогли избежать глубоких противоречий в своей теоретической и практической творческой деятельности. Отсутствие у них философской или научной подготовки не позволяло им формулировать идеи столь же внятно, как это мог бы сделать философ или ученый. Несмотря на это, а также несмотря на сложную во всех отношениях обстановку, в которой происходило развитие авангардного движения в начале 1920-х, мы можем видеть в авангардистах не просто художников, а мыслителей, которым удалось предвосхитить ряд тем философии постмодернизма. Тут необходимо вспомнить о высказывании одного из деятелей ЛЕФа — Н. Чужака, который в одной из своих работ высказал мысль о том, что авангардисты (он говорил о деятелях ЛЕФа, но ничто не мешает распространить это суждение на весь авангард) отличны от всех окружающих лишь тем, что «уловили величайшую потребность нашего времени и первые попытались уложить носившуюся в воздухе идею в несколько простых и, может быть, отпугивающих своей простотой положений» [7, с. 11]. Носившиеся в воздухе идеи были материализованы авангардом и представлены в виде живописных образов, пространственных конструкций и театральных постановок, а также в ином наглядном обличии. По завершении эпохи авангарда, как можно видеть на примере приведенных сопоставлений, эти идеи вновь ожили в философии постмодернизма, что, по-видимому, подтверждает правоту Чужака: авангард чутко уловил то, что «носилось в воздухе» и попытался уложить это «в несколько простых и, может быть, отпугивающих своей простотой положений». Прозрения деятелей авангарда важны сегодня, так как именно они одними из первых обратились к тем вопросам, что еще долго будут занимать передовых мыслителей современной цивилизации и смогли, несмотря ни на что, сформулировать собственные оригинальные, хоть и далеко не исчерпывающие ответы. |